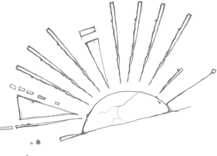Издатель книг Людмила Владимировна Глебова
29 января 2023 года исполнилось 90 лет Людмиле Владимировне Глебовой, а 21 января – 9 лет со дня её ухода из жизни.
В январском писательском календаре её имя, стоит несколько особняком. Я говорю о многолетнем редакторе Кемеровского книжного издательства, без чьего участия не вышло бы в свет множество книг.
А редактором она была первоклассным! И это знали все, кому доводилось работать с ней над своими будущими книгами. Мне хотелось бы выделить во всей её многолетней редакторской практике два её, на мой взгляд, самых заметных и показательных эпизода: сотрудничество с поэтом-фронтовиком Михаилом Небогатовым (Людмила Владимировна стала редактором четырёх из 16 его поэтических книжек (14 прижизненных и 2-х посмертных) и работа над книгой самодеятельного, очень самобытного автора Галины Мединой.
Если с первым автором Глебову связывало многолетнее знакомство и сотрудничество, то о втором стоит сказать отдельно.
 Случилось так, что, посещая занятия в клубе «Слово», Людмила Владимировна обратила внимание на одну женщину – очень скромную, даже какую-то робкую, не очень привыкшую выступать на публике со своими стихами Галину Аркадьевну Медину. И знакомство это, пусть и непродолжительное (Галина пришла в клуб «Слово» практически незадолго до своего скоропостижного ухода), стало для Людмилы Владимировны своеобразным глотком свежего воздуха.
Случилось так, что, посещая занятия в клубе «Слово», Людмила Владимировна обратила внимание на одну женщину – очень скромную, даже какую-то робкую, не очень привыкшую выступать на публике со своими стихами Галину Аркадьевну Медину. И знакомство это, пусть и непродолжительное (Галина пришла в клуб «Слово» практически незадолго до своего скоропостижного ухода), стало для Людмилы Владимировны своеобразным глотком свежего воздуха.
Они обе прониклись друг к другу большой симпатией. И общение доставляло обеим немало удовольствия. Когда стало известно о кончине Галины (это было как гром среди ясного неба!), Людмила Владимировна загорелась идеей издать книгу в память о Галине, и вызвалась и составителем стать, и редактором. Сама же к тому моменту была уже тяжело больна.
И над книгой (помогли и мои архивы Галиных текстов и книжек – мы были с ней литературными подругами, и клубовцы собрали всё, что осталось у Галины ещё только в рукописях) Людмила Владимировна взялась работать, как одержимая! И это при том, что уже лежала в хосписе!
На мой взгляд, именно эта работа над книгой и продлила ей жизнь! Она не только составила книгу, она написала предисловие от редактора (оно опубликовано наряду с предисловием руководителя клуба «Слово»), даже свои рисунки на полях сделала – какой, к примеру, она видела обложку.
И над названием долго размышляла, пока не остановилась на таком: «Пригласите меня!»
 И когда книгу издали, надо было видеть её, Людмилы Владимировны, счастливое лицо! Она совершила, на мой взгляд, подвиг: будучи смертельно больной, сделала, может быть, главное дело своей жизни – дала жизнь книге уже ушедшей из жизни самобытной поэтессы!
И когда книгу издали, надо было видеть её, Людмилы Владимировны, счастливое лицо! Она совершила, на мой взгляд, подвиг: будучи смертельно больной, сделала, может быть, главное дело своей жизни – дала жизнь книге уже ушедшей из жизни самобытной поэтессы!
И название оказалось точным и единственно правильным и подходящим: книга призывала читателей пригласить их обеих – и автора, и редактора (к моменту выхода тиража в свет Людмилы Владимировны уже тоже не стало) к знакомству с этим уникальным явлением – книгой, созданной в память об этом необыкновенном дуэте…
Вскоре после представления книги в Доме литераторов я написала свою небольшую книжечку под названием «Поэт и редактор: совместная творческая работа», в которой присутствуют эти двое подопечных Людмилы Владимировны – поэт-профессионал Небогатов и самодеятельный автор Медина.
И хотя наше знакомство с Людмилой Владимировной началось с курьёза, мне дóроги её слова, не раз слышанные от неё и написанные её рукой в коллективной открытке к моему дню рождения: «Достойная дочь талантливого отца!»
Нина Инякина
Наша справка
Литературный критик, редактор, член Союза журналистов РСФСР Людмила Владимировна Глебова родилась 29 января1933 года.
В 1952 году окончила Учительский институт в городе Кемерово, потом заочно Новокузнецкий педагогический институт.
Два года преподавала русский язык и литературу в школе.
 С 1959 по 1988 год работала в Кемеровском книжном издательстве. Быстро прошла путь от корректора и младшего редактора к старшему редактору, редактору отдела художественной литературы.
С 1959 по 1988 год работала в Кемеровском книжном издательстве. Быстро прошла путь от корректора и младшего редактора к старшему редактору, редактору отдела художественной литературы.
Способная и талантливая, она нашла себя в профессии, редактируя книги А. Волошина, Е. Буравлёва, М. Небогатова, А. Береснева, И. Киселёва, С. Тотыша, В. Рехлова, В. Чугунова, В. Махалова, А. Пинаева, В. Куропатова, Г. Емельянова, В. Ширяева и других кузбасских писателей.
Была редактором пяти выпусков книг о героях Кузбасса.
Талантливый литературный критик кузбасской литературы. Одна из лучших критических работ – вступительная статья «Я полюбил вот эту землю» в книге В.М. Баянова «Лирика» (1972). По признанию Глебовой-редактора, стихотворный сборник стал её любимой книгой.
В обзоре книг, вышедших в СССР в 1981 году, Госкомитет по печати отметил среди трёх лучших поэтических книг – «Лето» М. А. Небогатова, редактировали эту книгу В. М. Баянов и Л. В. Глебова.
Жила в г. Кемерово.
Умерла 21 января 2014 года.
Из книги Нины Инякиной «Поэт и редактор – совместная творческая работа» (Основана на дневниковых записях разных лет поэта Михаила Небогатова)
1963 год, воскресенье, 20 октября, вечер.
Позавчера я был дважды «именинник»: в 6 часов вечера по радио передавали рецензию Глебовой на «Родные просёлки», а без пяти восемь я начал своё выступление по телевидению. Рецензию я не слышал (на телевидении репродуктора нет), но доволен ею, так как Мусик (домашнее имя жены М. А. Небогатова Марии Ивановны. – Прим. Н. Инякиной) говорит, что Глебова очень тепло отозвалась и о сборнике, и обо мне вообще. ...На другой же день я по телефону поблагодарил Л. В. (Глебову) за доброе слово обо мне.
1969 год, пятница, 25 апреля.
 Недавно сходил в издательство... взял гранки сборника... Сегодня гранки отнёс. Предисловие Глебовой мне понравилось – вдумчивое, серьёзное. Людмила Владимировна уловила главные черты моей поэтической работы, основные её особенности, обо всём написала с большим пониманием.
Недавно сходил в издательство... взял гранки сборника... Сегодня гранки отнёс. Предисловие Глебовой мне понравилось – вдумчивое, серьёзное. Людмила Владимировна уловила главные черты моей поэтической работы, основные её особенности, обо всём написала с большим пониманием.
Первое впечатление от будущей книжки хорошее. Нет, пожалуй, стихов, которые не могли бы вызвать нарекания. Сказался, по-видимому, строгий отбор, который сделала Л. В. – мой редактор.
Понедельник, 3 ноября.
...Позвонила Глебова, порадовала сообщением о выходе книги «Свет в окне», предложила зайти, взять авторские экземпляры. Издание очень хорошее, прямо, можно сказать, не провинциальное, как в Москве. В твёрдой обложке, с портретом, с предисловием Глебовой. Правда, из-за картонного переплёта цена книжки немалая – 58 коп. Не всякий раскошелится, особенно студенческой молодёжи не по карману, а ведь она, молодёжь, больше, чем кто-либо другой, любит поэзию, читает её. Старикам-то это ни к чему... Ну, ничего, помаленьку разойдётся тираж, не такой уж великий – 10 тысяч.
1976 год, 17 апреля, суббота, 9 ч. вечера.
Утром звонила Глебова. Порадовала. Из восьми стихотворений о любви, написанных недавно (для сборника. – Прим. ред.), которые я ей на днях относил, пять она назвала просто очень хорошими. В этом я и сам был уверен. Три, говорит, или доработаем, или отклоним. Для разговора об этом договорились в понедельник встретиться.
20 мая, четверг, 1 ч. дня.
 Первая запись в новой тетради значительная. Вчера закончил работу над стихами, которые возвращала мне с замечаниями Глебова. Их оказалось всего двадцать восемь. Стихотворений пять требовали коренной переработки – сделал, а в остальных – построчные доделки. Не все замечания моего... редактора резонны и правильны... С ними можно и согласиться, и не согласиться, потому что всё слишком субъективно. Проделанной работой сам доволен, трудился на совесть. Надеюсь, что сейчас рукопись можно уже сдавать в печать.
Первая запись в новой тетради значительная. Вчера закончил работу над стихами, которые возвращала мне с замечаниями Глебова. Их оказалось всего двадцать восемь. Стихотворений пять требовали коренной переработки – сделал, а в остальных – построчные доделки. Не все замечания моего... редактора резонны и правильны... С ними можно и согласиться, и не согласиться, потому что всё слишком субъективно. Проделанной работой сам доволен, трудился на совесть. Надеюсь, что сейчас рукопись можно уже сдавать в печать.
1983 год, 4 марта, пятница, 12 ч. 45 м. дня.
...Гена Юров поручил мне поздравить с Днем 8 Марта женщин – редакторов нашего издательства – Александру Михайловну Титову, Тамару Ивановну Махалову, Людмилу Владимировну Глебову и Наталью Петровну Захарчук (его жену). И вот что получилось у меня:
Шура, Люда, Тома, Ната,
С днём восьмого марта вас!
Новой книгою весна-то
Вам открыта в этот час.
Люда, Ната, Шура, Тома!
Оказать вам рады честь.
Мы в издательстве – как дома,
Потому что вы здесь есть!
Ната, Шура, Тома, Люда!
Пусть и в новые года
Добрых рукописей груда
Не иссякнет никогда!
Тома, Люда, Ната, Шура,
Говорит вам весь Кузбасс:
Да цветёт литература
Под присмотром ваших глаз!
1984 год, 10 февраля, пятница, 4 ч. дня
 Вчера днём позвонила Глебова: уже прислали в производственный отдел гранки моей книги. Я быстро сходил в издательство, взял их. Вчера же внимательно вычитал. Опечаток немного. А сегодня сделал подсчёт стихотворений...
Вчера днём позвонила Глебова: уже прислали в производственный отдел гранки моей книги. Я быстро сходил в издательство, взял их. Вчера же внимательно вычитал. Опечаток немного. А сегодня сделал подсчёт стихотворений...
Итого во всём сборнике 107 стихотворений и 3935 строк. На 265 строк меньше, чем полагалось по договору. Это минус где-то 400 с лишним рублей. Это огорчает. Но радует то, что гранки готовы уже сейчас, значит, выхода сборника можно ждать в апреле или в мае...
23 апреля, понедельник, 5 ч. вечера.
Сегодня у меня радостный, можно сказать даже, счастливый день: два часа назад позвонила Глебова:
– Поздравляю Вас, Михаил Александрович!
– С чем?
– С выходом книжки. Приходите за авторскими экземплярами.
...Книжка – в коленкоровом переплёте, объёмом чуть-чуть побольше «Лета», а по толщине почти такая же, хотя печатных листов в ней намного больше; это потому, что стихи набраны, как говорят издатели, в подбор, т. е. одно за другим, а не отдельно на каждой странице. Цена небольшая – 90 коп. (у баяновской книжки – 1 р. 30 к.). Зелёным цветом наверху обложки – Михаил Небогатов, а посередине красным – «Земля моя добрая», внизу под палочкой от буквы «р» – что-то зелёное, вроде травки, и красные венчики цветов. Фотография – хорошая: облокотился на что-то и задумчиво (почти анфас) смотрю куда-то в сторону (такой фотографии у меня нет). Шрифт... довольно крупный, «воздух» (просвет) между стихами вполне достаточный. Вручая мне книжки, Глебова сказала:
 – Подумайте, какой будет новая книга. Хорошо бы издать пародии. А то всё в одном и одном жанре у вас. Пародий на небольшую книжку у меня наберётся, да и новые написать есть время.
– Подумайте, какой будет новая книга. Хорошо бы издать пародии. А то всё в одном и одном жанре у вас. Пародий на небольшую книжку у меня наберётся, да и новые написать есть время.
24 ноября, суббота, 12 ч. 15 м. дня.
За полтора дня по заказу Глебовой для книги стихов и поэм Жени Буравлёва (выход – в будущем году) написал воспоминания о нём – подробно рассказал, как редактировал его первый сборник «Кладоискатели»; само собой, описал первую встречу с ним в издательстве, дал несколько отрывков из писем Жени ко мне — всё о работе его над лучшей своей вещью, поэмой «Красная горка», коротко рассказал о посещении его вместе с Витей Баяновым в больнице (за три дня до кончины Жени).
Когда вслух читал Мусику это место, дыхание перехватило, голос пропал, и мы оба с Мусиком всплакнули. По объёму воспоминания краткие – шесть с небольшим страниц. Людмиле Владимировне они понравились...
г. Кемерово
Из публикации «Моя мама – Глебова Людмила Владимировна»
…Мама носит меня на руках и, видимо, давно. Это мое первое воспоминание о детстве, впервые я осознала свое присутствие на свете. Сколько мне было? Наверное, от 2 до 6 месяцев, точнее сказать не могу. Мама потом говорила, что я не могу этого помнить, была слишком маленькой.
…Следующее воспоминание. Мне лет 5, может, меньше. Мама пришла на обед с работы. «Мама, не уходи!» «Доченька, мне надо на работу! Побудь с бабушкой, я приду вечером, а завтра суббота, коротенький денёчек, а послезавтра – воскресенье, я никуда не пойду»! Горестный вздох.
 Летом мы с мамой едем в дом отдыха. «Девочку нельзя оставить тут, тут взрослый дом отдыха, ищите для неё место в частном секторе!» И я спала в крестьянском доме. Там были кошки, такие мягкие и тёплые! После этого я стала просить маму взять котёночка.
Летом мы с мамой едем в дом отдыха. «Девочку нельзя оставить тут, тут взрослый дом отдыха, ищите для неё место в частном секторе!» И я спала в крестьянском доме. Там были кошки, такие мягкие и тёплые! После этого я стала просить маму взять котёночка.
Мама приходила утром, забирала меня, и мы шли на природу. Находили скамейку, садились и ели бутерброды с маслом и чёрной икрой. В Анжерском доме отдыха была речка Яя. Речка Яя мелкая, чистая и тёплая, и я полюбила воду.
Потом началась школа. Мы уже жили отдельно от бабушки с дедом, у меня был уголок за шкафом в нашей однокомнатной квартире, (в доме напротив второй областной больницы), где стояла кровать и книжный шкаф. А ещё был стол со спиленными ножками и такой же стул, мне по росту.
…Потом начались строгости. В начальных классах я училась не очень хорошо, наверное, не понимала всей важности момента и хороших отметок. Мама приучала меня заниматься. У меня ведь была ещё и музыкальная школа, я училась по классу виолончели! «Если ты что-то делаешь, пусть даже уроки, надо делать так хорошо, как только можешь! – говорила мама, – Самый страшный человек – троечник – он всё делает, лишь бы только с рук, не будь такой!»
Русский язык давался мне без труда, а вот над математическими дисциплинами пришлось попотеть! Мама не выносила, если я чего-то не понимала или ленилась. Могла и наподдать! Классе в пятом она читала мне вслух Н. А. Некрасова, поэму «Саша». Ещё лет в пять я знала по портретам всех русских писателей (был у нас такой набор открыток). Стихи были привычны моему уху с раннего детства и легко запоминались.
…Помню наизусть почти всего «Демона». Потом пошли стихи Пушкина, Есенина, Маяковского. У последнего я любила лирику и разговор с памятником Пушкина на Тверском бульваре. У нас даже была запись на пластинке стихов Маяковского и Блока. Блока читала Алиса Коонен. А ещё сказки. Про голых охотников и другие. Пластинки с пионерскими песнями: «Колёса, бегите, колёса, стучите, колёса, горячее время не ждёт...» Почему-то эти песни не передавали по радио, а напрасно!
Ещё в доме было много пластинок опер. «Травиата» – моя любимая. Бабушка шила, мама немного ей помогала. Я с раннего детства видела выкройки, знала, что такое «перекатить», ушить, подогнать по фигуре. Мама красиво одевалась благодаря бабушке, потом эти платья доставались мне. В школе нас тоже учили шить, и шитье давалось мне без труда. Так и научилась. Не обходилось и без курьезов.
Однажды к нам домой пришли художники-оформители. Они принесли эскизы для новой книги и стали раскладывать их на полу – нигде больше не было места. А у нас жила кошка Муся. И вот, стоит художник на коленях на ковре и расставляет рисунки возле пианино, а Муська подползает на брюхе к нему сзади, глазищи огромные, ноздри шевелятся и нюхает, нюхает... его носки. Она была непривычна к таким запахам. Он пытается незаметно её отпугнуть – какое там! Отбежит и опять на брюхе подкрадывается. Бедный парень! Надеюсь, после такого конфуза больше не забывал стирать носки вовремя!
 Был ещё один смешной случай. К нам должен был прийти один автор (мама иногда работала с авторами дома, когда времени на работе не хватало для обстоятельного «разбора полётов»). В назначенное время мы сидели с ней на кухне возле окна и смотрели во двор. Вот видим, как он пересёк двор и вошёл в подъезд. Одна минута, две, пять, десять... «Да где же он, знакомых, что ли, встретил в подъезде и к ним зашёл?»! Через час – телефонный звонок:
Был ещё один смешной случай. К нам должен был прийти один автор (мама иногда работала с авторами дома, когда времени на работе не хватало для обстоятельного «разбора полётов»). В назначенное время мы сидели с ней на кухне возле окна и смотрели во двор. Вот видим, как он пересёк двор и вошёл в подъезд. Одна минута, две, пять, десять... «Да где же он, знакомых, что ли, встретил в подъезде и к ним зашёл?»! Через час – телефонный звонок:
«Людмила Владимировна, где вы были, я к вам заходил, вас не было дома!» «Я была дома, мы с дочкой видели, как вы вошли в подъезд, куда вы делись?» «Я позвонил, вы не открыли». «Да не было звонка! Может, вы кнопку плохо надавили? Почему вы не постучали, ведь я вас жду!» «Я позвонил один раз, а ещё раз звонить счёл неприличным! Если вы меня видели, почему не вышли меня встречать?» Он очень обиделся. Ну что тут скажешь!?
Я часто приходила к маме на работу. Издательство тогда было на Советском проспекте. Она делила кабинет с Игорем Киселёвым, он тогда тоже был редактором. Она восхищалась его умом, добротой и талантом. Один раз она рассказала мне, как он подобрал на улице избитого котёнка, принёс домой, лечил. Мне тогда было лет 10-12, и я тоже его полюбила.
Помню, была программа по телевидению, он там говорил о защите природы, о загрязнении Байкала, о том, что «скоро срубят последнее дерево, убьют последнего зайца». Тогда я впервые задумалась о защите природы от загрязнения. Тогда, в 1960-е, об этом было «не модно» говорить… Ещё его стихи:
Ни по воде, ни слёту,
Ни пуха, ни пера!
Я не люблю охоту,
Кровавая игра...
…Игорь остался в моей памяти как очень добрый человек, всегда улыбающийся. А вот директор издательства В. В. Банников представал моему детскому воображению одиозной фигурой. «Он бы меня уволил, если бы я так хорошо не работала! Ему придраться не к чему», – говорила мама. Потом уже я поняла, в чём дело. Мама была привлекательна и одинока... Потом директором издательства стала Зинаида Чигарева. «Жить стало легче, жить стало веселее».
Мой отец, Жарков Александр Алексеевич, тоже был учителем русского языка и литературы. После окончания Учительского института они вместе начинали учительствовать где-то в Мордовии. Квартирная хозяйка всё время ставила брагу и отец после работы любил пропустить стаканчик. Маме это казалось ужасным пьянством, ведь она выросла в семье почти аскетической, в которой ни отец, ни дед не пили и вообще отличались нетерпимостью к алкоголю.
 Мама ещё с обидой намекала, что папаня вообще вёл себя не по-джентльменски. Мириться с таким положением вещей она не могла и не хотела. Они вернулись в Кемерово, и в 1958 году родилась я. А потом родители развелись. Мама не побоялась остаться одна с маленьким ребенком на руках.
Мама ещё с обидой намекала, что папаня вообще вёл себя не по-джентльменски. Мириться с таким положением вещей она не могла и не хотела. Они вернулись в Кемерово, и в 1958 году родилась я. А потом родители развелись. Мама не побоялась остаться одна с маленьким ребенком на руках.
…В 1953 году мама работала в школе учительницей. Она выставила из класса одного мальчишку-хулиганишку, а через некоторое время он прибегает зарёванный и говорит: «Людмила Владимировна, Сталин умер!» Тут все дети как ударились лбами о парты, как давай плакать! Урок, конечно, был сорван. Мама рассказывала, что и она плакала, вся страна плакала, вот такой общественный психоз. Только бабушка по матери (моя прабабушка Мелешкова) перекрестилась и сказала: «Слава тебе, Господи!».
Нашу семью тоже не обошли сталинские репрессии, брат дедушки Сергей Семенович Глебов был репрессирован. Помню, как к нам приезжала его жена и дедушка помогал ей получить справку о реабилитации брата (Сергей не вернулся из лагерей). Как была рада эта бедная женщина, когда получила документ! «Я покажу одному-двум, а все знать будут!», – говорила она со слезами радости.
…Мама была высокообразованная, ответственная, духовная, способная на жертвенную любовь к избраннику, и того же требовала от «него». Не нашлось мужчины её калибра, всё попадались какие-то мелкие, корыстные да трусливые. Были в её окружении интересные и достойные мужчины, но они имели семьи. Для мамы это было табу. Она и мне всегда внушала, что разрушить чужую семью – грех, всё равно счастья не будет.
…После окончания школы мама поехала в Москву поступать во ВГИК. Там у неё всерьёз спрашивали: «А у вас медведи по улицам не ходят?» Она не поступила, а потом, приехав домой, пошла в учительский институт и стала учительницей русского языка и литературы. Поработав в школе несколько лет, закончила курсы редакторов и пришла в Кемеровское книжное издательство.
Дома она рассказывала мне о своей работе, об авторах. Любила работать с Виктором Баяновым, Игорем Киселёвым, Катей Дубро, Людмилой Фадеевой (детская писательница из Петербурга).
 С Катей Дубро её связывала многолетняя дружба. Это просто удивительно, как девочка, с детства прикованная к постели (у Кати была наследственная болезнь – прогрессирующая атрофия мышц) может писать такие светлые и оптимистические книги! Хорошо помню работу над книжкой Кати «Вернусь звездопадом».
С Катей Дубро её связывала многолетняя дружба. Это просто удивительно, как девочка, с детства прикованная к постели (у Кати была наследственная болезнь – прогрессирующая атрофия мышц) может писать такие светлые и оптимистические книги! Хорошо помню работу над книжкой Кати «Вернусь звездопадом».
А вот Валентину Махалову от неё доставалось за его псевдостаринный стиль (например, «моих сынов» вместо «моих сыновей» и подобное).
Я слышала от мамы такие имена как Волошин, Буравлев, Мазаев – но об этих авторах не помню ничего особенного. А вот книга В. Власова «Каратайга» оставила значительный след в памяти. Мама читала вслух отрывки, и мы вместе смеялись над приключениями геологов в тайге…
К Александру Бересневу мама относилась с уважением, с удовольствием с ним работала и даже помогала иногда ему в бытовых проблемах, например, с переездом из Новосибирска в Кемерово. Была даже аудиозапись, письмо, адресованное маме. К сожалению, я случайно стерла её… А Саша Береснев умер вскоре после переезда.
…Новокузнецкий детский поэт Эдуард Гольцман приезжал часто, они с мамой дружили, он даже делал ей когда-то предложение руки и сердца, но мама отказала… И они остались друзьями. И не только с ним, но и со всей его семьей. Однажды Эдик пришёл к нам расстроенный и рассказал такую историю. Он шёл мимо детского сада и решил почитать детям свои новые стихи. Дети слушали, им нравилось. А потом Эдик и говорит одному мальчику: «А ты на Тома Сойера похож». Мальчик, видно, решил, что его обижают и сказал: «А ты – на Бармалея!» И тут все дети стали кричать хором: «Бармалей, Бармалей!». Бедный Эдик не знал, что делать. Тут подходит милиционер, отдает честь и спрашивает: «Гражданин, вы почему детей дразните?»
Книгу Софрона Тотыша (национальный писатель) мама редактировала после смерти автора. Рукопись принесла его вдова. Рукопись была «сырая», нужно было много дорабатывать – ведь мама не привыкла выпускать в свет книги, которые оставляли желать лучшего, и она прямо сказала об этом вдове. Та стала просить и даже предложила маме соавторство, но мама наотрез отказалась. И, как оказалось, правильно сделала. Она согласилась только на литературную обработку (точнее не помню, но в титрах книги так и стояло: автор – Тотыш, литературная обработка – Л. В. Глебова). Когда книга вышла и стали получать гонорар, вдова была очень недовольна, был какой-то скандал: она не хотела делиться. Мама очень переживала. А ведь за соавторство она бы вообще получила 50 процентов.
 …С ленинградской детской писательницей Людмилой Фадеевой мама дружила до самых последних дней. Муж Людмилы – художник, он прислал маме несколько своих картин, они сейчас висят в маминой квартире. Мама часто читала вслух отрывки из книг Людмилы на школьную тему. Они нам очень нравились. Потом Людмила вступила в Союз писателей СССР. Это сейчас много «союзов», а тогда был один.
…С ленинградской детской писательницей Людмилой Фадеевой мама дружила до самых последних дней. Муж Людмилы – художник, он прислал маме несколько своих картин, они сейчас висят в маминой квартире. Мама часто читала вслух отрывки из книг Людмилы на школьную тему. Они нам очень нравились. Потом Людмила вступила в Союз писателей СССР. Это сейчас много «союзов», а тогда был один.
Мама постоянно старалась улучшить качество книг, работала с авторами, была очень требовательной. Многие даже обижались. Потом, правда, понимали её правоту и благодарили. Издательство не только издавало книги кузбасских писателей, но и переиздавало другие книги, среди которых меня очень порадовали «Сонеты» Шекспира, подарочное издание в твёрдом переплёте мини-формата, стихи Сафо, «Три товарища» Э.М. Ремарка, «Анжелика» А. И С. Голон. Жалко, что областное начальство не помогло сохранить издательство.
Неужели людям больше не нужна духовная пища? Ведь «не хлебом единым...». Может быть, стоит поднатужиться и возродить издательство?
Я стала взрослая. …Вышла замуж и уехала в Новосибирск. Потом судьба занесла меня в Швецию, где я теперь и живу. Мы с мамой отдалились друг от друга, писали письма, разговаривали по телефону...
Она рассказывала о клубе «Слово», о поэтессах. Она стала редактировать их стихи. Но работала не со всеми. Очень любила Галину Медину. И вдруг, как гром среди ясного неба – рак! Я жалела, что не могу разорваться на две части – надо быть и дома с мамой, и в Швеции, где муж и работа. За последние полгода её жизни я приезжала пять раз, а дорога-то неблизкая! Хотела быть рядом с ней в последние часы, да не пришлось…
Книжка Г. Мединой «Пригласите меня» стала последней и для Галины, и для её редактора. Перед смертью мама успела подержать в руках сигнальный экземпляр книги Галины Мединой, как и мечтала.
Маму похоронили на 5-м кладбище Кемерова. Она завещала похоронить её рядом с родителями и тётей Фаней. Я приехала и перезахоронила её там, где она хотела…
Нина Жаркова,
дочь Л. В. Глебовой.
Кемерово, 2015.
Источник: https://litmap.kemrsl.ru/documents/publications/95__N.pdf
Людмила Глебова: «Я сроднился навек с полевою тропою…» (Из вступительной статьи к сборнику стихов М. А. Небогатова «Свет в окне»: – Кемерово, 1969)
Когда вы начнёте читать этот сборник, то, прежде всего, вы услышите интонацию задушевного дружеского разговора. К читателю – другу своему обращается поэт, человек много переживший, перевидевший, узнавший подлинную цену всему.
 Внимательный ко всем проявлениям жизни, поэт умеет увидеть прекрасное и значительное в повседневном, незаметном, виденном всеми много раз, он умеет радоваться этому найденному, открытому в повседневности и, открывая красоту мира, учит ценить и любить жизнь, этот «наш краткий праздник бытия».
Внимательный ко всем проявлениям жизни, поэт умеет увидеть прекрасное и значительное в повседневном, незаметном, виденном всеми много раз, он умеет радоваться этому найденному, открытому в повседневности и, открывая красоту мира, учит ценить и любить жизнь, этот «наш краткий праздник бытия».
Самое главное в поэзии Михаила Небогатова, на мой взгляд, – ощущение полноты жизни и прекрасности её. Это не значит, конечно, что поэт приемлет всё увиденное, что он утверждает, не отрицая ничего. Его антипатии выражены вполне определённо и резко, но более привлекают внимание поэта Михаила Небогатова светлые стороны бытия.
Может быть, поэтому он так часто обращается к изображению природы, её красок, её движений, её непрерывных изменений, хотя он внимателен и к людям. До боли родны и дороги ему русские сибирские просторы с их величественными реками, бескрайними полями, черневой нетронутой тайгой.
Ему мил и маленький ручей и полевые колки, трепетно любование поэта распускающимся цветком, закатом и рассветом, его неподдельно радуют «белоснежные, ядрёные» облака, плывущие в сини неба, и пшеничные просторы в тонком июльском мареве, и дальняя избушка в лесу, и девичья песня вдалеке.
Тёплые волны любви к русской природе идут из сердца поэта в его стихи и отдаются в сердце читателя тёплой ответной волной.
Счастлив я и рад
необычайно,
Что вижу солнце, синий
небосвод,
Что высоко над самой
головою
Я журавлей прощальный
слышу крик,
Что березняк шумит
сухой листвою,
Как милый мне
есенинский дневник.
 Он благодарен мудрой матери-природе за нетленную жизнь, он с удовлетворением замечает, как благотворно действует природа на человека, как душевнее, мягче, отзывчивее становится городской житель, попав на просторы полей. Вот она, та самая красота и прелесть жизни, которую люди часто не замечают или о которой постепенно забывают, будучи заняты тысячами мелких суетных дел своих. Михаил Небогатов считает, что обязанность и призвание поэта – всегда находить, открывать красоту и напоминать, говорить о ней людям, одаряя их этой красотою в меру своего таланта. В одном из стихотворений он прямо говорит об этом:
Он благодарен мудрой матери-природе за нетленную жизнь, он с удовлетворением замечает, как благотворно действует природа на человека, как душевнее, мягче, отзывчивее становится городской житель, попав на просторы полей. Вот она, та самая красота и прелесть жизни, которую люди часто не замечают или о которой постепенно забывают, будучи заняты тысячами мелких суетных дел своих. Михаил Небогатов считает, что обязанность и призвание поэта – всегда находить, открывать красоту и напоминать, говорить о ней людям, одаряя их этой красотою в меру своего таланта. В одном из стихотворений он прямо говорит об этом:
«Всей жизни – бурной, многоликой,
По-детски радуясь, дивлюсь,
И этой радостью великой
Я с вами дружески делюсь».
Михаил Небогатов в своих стихах воспевает зиму и лето, закаты и восходы, первый подснежник и последний золотистый лист на клёне. Неподдельное восхищение жизнью во всех её вечно обновляющихся проявлениях выражено у Небогатова словами обыкновенными и простыми, в форме привычной и не новой.
И это неслучайно: поэт считает, что простые слова и давно открытые формы стиха отлично могут выразить любую важную и серьёзную мысль. Поиски новой формы Михаил Небогатов считает делом второстепенным – говорилось бы в произведении о сокровенном, выношенном в душе, шли бы слова из самого сердца. В «простой» форме не скроешь слабого содержания, и сильное выступает в ней с особой рельефностью.
Любовь к жизни, большая любовь к природе, любовь к людям. По-видимому, это чувство рождает поэтов, и никакой поэт немыслим без него. У каждого оно закладывается в различные моменты жизни. У Михаила Небогатова любовь к природе возникла незаметно, исподволь, с детских лет. Маленький рабочий посёлок Гурьевск, где в 1921 году в семье счетовода металлургического завода родился сын Миша, со всех сторон был окружён лесами.
 Первые детские забавы и открытия были связаны с родной природой. Любовь к людям, к живому русскому слову воспитывалась в семье матерью, которая знала наизусть много стихов и песен Некрасова и Кольцова, речь её была пересыпана пословицами и поговорками.
Первые детские забавы и открытия были связаны с родной природой. Любовь к людям, к живому русскому слову воспитывалась в семье матерью, которая знала наизусть много стихов и песен Некрасова и Кольцова, речь её была пересыпана пословицами и поговорками.
Отец умер рано, и семья была в нужде и лишениях. В 1937 г. Михаилу пришлось оставить учёбу, и он стал работать техником-инвентаризатором. С первых дней войны М. Небогатов был мобилизован. Воевал сначала рядовым красноармейцем, а затем – в звании младшего лейтенанта. Участвовал в боях на Смоленском и Ворошиловградском направлениях. В 1943 году в одном из боёв Михаил Небогатов был тяжело ранен и вернулся в Кемерово.
После выздоровления он работал военруком, культмассовиком, литсотрудником газеты «Кузбасс», корреспондентом областного радио, редактором отдела художественной литературы Кемеровского книжного издательства.
Особенно по душе пришлась ему работу журналиста, в которую он уходил с головой. Но в нагрудном кармане его пиджака всегда лежала заветная записная книжка, в которую частенько вписывал он строчки сочинённых им стихов, свои первые строчки, их долгое время он стеснялся кому-либо показывать. А через некоторое время его стихи появились на страницах областной газеты «Кузбасс».
Её корреспондент, Михаил Небогатов писал для газеты стихотворные репортажи и рассказы о передовиках производства, о значительных событиях в жизни земляков, о родном Кузбассе, что растёт не по дням, а по часам. Часто из-под его пера выходили гневные сатирические стихи, высмеивающие обывателя и тунеядца, бюрократа и лодыря.
Но не эти стихи привлекали к нему внимание читателя. Полюбились читателю простые и проникновенные строчки Небогатова о природе, о любви к родине. Тут чувствовалась главная тема молодого автора.
Стихотворчеством Михаил Небогатов начал заниматься в юности, но долгое время не придавал этому серьёзного значения. Он писал о себе в одном из своих сборников: «И на фронте и в первое время по возвращении домой я совсем не помышлял о том, что когда-нибудь литература станет моей профессией, стихотворством занимался по-дилетантски, между делом. Началом серьёзной творческой работы считаю 1945 год, когда мои стихи стали частенько появляться в областной газете «Кузбасс»…
…Война оставила тяжёлый след не только на теле, но и в сознании Михаила Небогатова, хотя стихов о войне, её ужасах у поэта совсем мало. Но дело тут, по-видимому, не в количестве: война заставила взглянуть по-новому на жизнь, на людей, на всё окружающее. Вынесшему на своих плечах её тяготы, глядевшему не раз в глаза смерти солдату жизнь казалась стократ милей и значительней, чем раньше.
С войны вынес он убеждение в неразрывной связи и зависимости людей друг от друга, высокое понятие о дружбе людской, чувство доброжелательности к людям, глубокое чувство уважения к русскому народу, к его прошлому и настоящему, к его героическому мирному труду.
Громкая патетика несвойственна поэту Михаилу Небогатову, удачи сопутствуют ему тогда, когда он говорит тихим задушевным голосом. Есть цветы огромные, яркие, привлекающие внимание издалека. Есть цветы неяркие, скромные, с виду неприметные. Но без них не будет полевого букета, именно эти – обыкновенные, неприметные цветы и придают ему главную прелесть.
 Присмотрись, как она близка тебе и как много говорит твоему сердцу. Так и поэзия Михаила Небогатова. Он не поразит воображение неожиданной рифмой, экзотическим сравнением, звонкой аллитерацией – она подкупает своей задушевной теплотой и безыскусностью.
Присмотрись, как она близка тебе и как много говорит твоему сердцу. Так и поэзия Михаила Небогатова. Он не поразит воображение неожиданной рифмой, экзотическим сравнением, звонкой аллитерацией – она подкупает своей задушевной теплотой и безыскусностью.
В сборнике «Свет в окне» читатель найдёт стихи о природе, о любви, о товарищах, земляках, о родине. Многие из них написаны давно, значительно количество и новых стихов. Готовя сборник к изданию, поэт пересмотрел всё им написанное, многие произведения были переработаны. Автор стремился представить на суд читателей различные по темам произведения, которые считал наиболее достойными быть напечатанными в книжке избранных стихов…
В каждом стихотворении Михаила Небогатова, на какую бы тему оно ни было написано, читатель легко уловит сущность его творчества, о которой он сказал так:
«Пусть не стану я большим поэтом,
Пусть со мной стихи мои умрут,
Но пока любуюсь белым светом,
Я не брошу свой заветный труд.
И пока я вижу небо это,
Эту землю, солнце, облака,
Не умрёт во мне душа поэта,
Будет славить жизнь моя строка!»
«Славить жизнь» – вот то самое главное и верное слово, которое поэт сказал сам о себе.
Источник: https://litmap.kemrsl.ru/documents/works/95__SRODNILSYA_NAVEK_S_POLEVOYU_TROPOYU.pdf
Фото из архива Нины Инякиной и Internet